C чего начинать учить корейский язык? «Всё идет от любви к языку, к народу и культуре», – считает декан Переводческого факультета МГЛУ Екатерина Анатольевна Похолкова. И если эта любовь не формируется, процесс обучения превращается в страдания. А дальше потребуется усердие и погружение в язык.
Как учить корейский? Почему выучив грамматику и слова, невозможно достичь успеха в межкультурной коммуникации между корейскими и русскими? Почему важно сочетать отечественную и корейскую методики преподавания языка? Почему корейский так быстро меняется и что с этим делать? Ответы на эти и другие вопросы в шестом выпуске нашего подкаста.
OR: Здравствуйте, Екатерина Анатольевна.
Похолкова Е.А.: Здравствуйте, Елена Анатольевна.
OR: Екатерина Анатольевна, первый мой уже ставший традиционным вопрос, сложно ли учить корейский язык?
Похолкова Е.А.: Каждый кореец захочет услышать, что корейский язык учить сложнее всех остальных языков мира. Однако я отвечу, как эксперт, развеяв все иллюзии: любой язык учить непросто, а особенно тяжело это делать, когда нет искренней любви к языку. Во время моего обучения корейскому учитель сказал, что всё идет от любви к языку, к народу и культуре. И если эта любовь не формируется, процесс обучения превращается в страдания. Именно поэтому преподавателям важно, особенно на начальном этапе, привить студентам любовь к языку: «заразить болезнью» корейского языка всех. Дополнительные лингвистические сложности может породить и отличие корейского языка от русского, поэтому необходимо заранее принять, что учить язык в целом непросто, а также подготовить себя морально к разнице языков (корейский-русский).
OR: Екатерина Анатольевна, давайте поговорим про разницу методики преподавания корейского языка. Как преподают корейский в России и как преподают корейский в Корее?
Похолкова Е.А.: Это очень интересный и многогранный вопрос. Во-первых, стоит учитывать, где именно преподается язык: в университете, на различных курсах, дополнительных программах или в культурных центрах. Более того, очень важно понимать, какую цель ставит перед собой организация, в которой преподается язык: является ли целью просвещение (например, у таких организаций, как Корейский Культурный Центр) или университетское образование.
Я предлагаю поговорить об обучении в университете. В Корее есть четкое деление: кугоква, хангугоква. Кугоква — это изучение теории корейского языка носителями. Порой корееведам и тем, кто интересуется корейским языком, надо тоже изучать, как сами корейцы учат свой язык и преподают его. Хангугоква — корейский язык для иностранцев. Здесь методики преподавания совсем другие. Как мы знаем, большинство дисциплин по преподаванию корейского языка в Корее построены по концепту ильки, сыги, мальхаги, тытки, то есть это чтение, письмо, говорение и аудирование. Им кажется, что навыки и умения формируются именно таким образом. Наша российско-советская школа уходит от такого разделения. У нас обычно есть практический курс речевого общения на старших курсах, а само обучение текстоориентированное. Однако я не говорю, что так происходит везде, все равно есть множество дисциплин, которые связаны с переводом, и это, на самом деле, правильно. Перевод формирует очень много компетенций, навыков, умений и дает много дополнительных знаний. Но если говорить проще, то методика преподавания в Корее все же развивалась по принципу коммуникативного подхода, где основой является сначала отработка каких-то коммуникативных навыков. Однако, говоря честно, с корейским языком не очень работает такая система.
Советская школа всегда базировалась на когнитивном подходе: сначала осознание каких-то проблем, вопросов, создание фундамента за счет понимания грамматических и фонетических основ, а потом уже применение этих знаний на практике, формирование навыков и умений. Более эффективным мне кажется именно коммуникативно-когнитивный подход, потому что без осознания русский человек не захочет ничего делать, причем даже в самом раннем возрасте. Миллениалам особенно сложно, они не готовы просто запомнить, им всегда надо ответить на вопрос: «А почему так? А почему это исключение». Это прекрасное качество характера, за которое я обожаю студентов. Поэтому когнитивно-коммуникативный подход является ключевым в российском образовании, а дальше мы должны исходить из особенностей образовательной программы. На переводческом факультете мы учим так, на педагогическом иначе, на факультете экономики применяем третий метод. Однако целью преподавания все равно должны оставаться международные отношения. Через перевод очень многое осознается: разница концептуальных картин мира, разница выражения мысли. Более того, всегда идет сравнение языков между собой: никогда слова в своих значениях не являются идентичными, грамматика тоже не может быть идентичной, мысль никогда не выражается идентично, поэтому сопоставление языковых и грамматических элементов ведет к развитию аналитических способностей. Однако это моя точка зрения и есть люди, которые её не разделяют.
OR: В таком случае, можно ли выучить корейский язык или учиться корейскому языку по корейским учебникам?
Похолкова Е.А.: Я думаю, обязательно нужно использовать в обучении корейские учебники, потому что корейские учебники готовят к TOPIK (экзамен на знание корейского языка). Этот экзамен составляют специальные институты корейского языка, разрабатывают концепции. Мы готовим студентов в том числе и к нему. То есть если апеллировать только методиками, основываться на межкультурной коммуникации и переводе, мы можем упустить какие-то вещи, на которые студенты ориентируются, например подготовку к квалификационным экзаменам. Корейские учебники надо использовать обязательно и для того, чтобы видеть, как развивается корейский язык, что нового там появляется. В южнокорейском варианте постоянно появляется что-то новое, раньше я этого не видела в языке. В других языках гораздо меньше идет процесс изменения, поэтому мы используем и будем использовать корейские учебники.

Е.А. Похолкова, декан Переводческого факультета МГЛУ
OR: Вы сказали, что корейский язык меняется быстрее, чем другие языки. Чем это можно объяснить?
Похолкова Е.А.: Мне кажется, секрет постоянных изменений корейского языка кроется в самой его структуре (назовём это условно агглютинативным характером языка). Мы знаем, что словообразование очень подвижно и слова появляются очень быстро. Некоторые неологизмы как мухи-дрозофилы: появились в результате какого-то события и после него исчезли. Некоторые слова живут чуть дольше, некоторые вообще остаются навсегда. Всё более активно появляются сокращённые слова. Недавно вышел словарь K-pop dictionary, который переводила Инна Панкина. Там мы видим огромное число неологизмов, появившихся в последнее время благодаря корейской популярной культуре. Однако это всего лишь один сегмент языка. Этому способствует, конечно, и корейский алфавит хангыль, а также, как я это называю, «иероглифический тип сознания», хотя это не научный термин, характерный для корейского языка, возможно, и для японского и китайского тоже, но здесь я не буду замахиваться на такие большие группы. Новые слова появляются легко, причём очень много гибридных слов, в которых и иероглиф, и фонетическое заимствование из английского, и потом ещё иероглиф. Части слова, как кубики Lego, вступают в комбинации друг с другом. Такая открытость языка обусловлена его типологией. Всё же русский язык не настолько гибок, потому что всё же относится к флективным, а агглютинативные, как кубики, способны к быстрому словообразованию и накоплению всевозможных новых элементов. Мы в корейском языке видим древнейшие рудименты в виде ономатопоэтических слов, которые, как мне кажется, вообще пришли со времён палеолита из очень-очень примитивных обществ. Видим мы и сверхновые слова, которые появляются и отражают тот мир, в котором мы живём. Это очень интересная особенность корейского языка.
OR: Получается, что язык отвечает на запрос общества? Меняется ли общество так быстро, как меняется язык?
Похолкова Е.А.: Процессы изменения общества и языка взаимосвязаны. Они порой идут вместе, а иногда язык даже в чём-то опережает общество. Однако в корейском языке происходит ещё очень много всего интересного, потому что есть Национальный институт корейского языка, который ведёт активную языковую политику, например, они каждый год вывешивают списки, какие слова нежелательно использовать, какие слова считаются политкорректными, какие нужно уже забыть. Они всё фиксируют и каждый год издают словари неологизмов. Здесь нужно отдать должное тому, что ведётся очень грамотная системная работа. Русский язык более ригидный, он медленнее реагирует, хотя тоже засоряется заимствованиями. Поэтому, мне кажется, именно благодаря языковой структуре корейский язык молниеносно реагирует на то, что происходит в обществе, сразу появляется что-то «новенькое». Однажды было жаркое лето в Корее, когда отключали электроэнергию, и многие стали в офис по-другому одеваться, я заметила появление новых слов. Когда происходит какое-то сезонное событие — люди сразу реагируют на это, словарь пополняется. Сейчас не знаю, как они отреагировали на коронавирус, но появилось много слов коронавирусной эпохи, хотя в данном случае и русский язык прореагировал активно, зафиксировано 2500 слов коронавирусной эпохи.
OR: В таком случае, есть ли какая-то борьба за чистоту языка?
Похолкова Е.А.: Язык — вещь очень сложная, он живое существо. Корея ведёт системную работу с ним. Мне кажется, как таковой борьбы нет, есть некие любители корейского языка, которые отстаивают точку зрения, что нужно избавляться от ханмунной лексики, никак не использовать иностранные заимствования, но это будет уже невозможно, тем более что корейский язык гораздо более восприимчив к вкраплениям. Поэтому общество определяет само, что будет использовать, а что нет. Я периодически получаю отчеты от Национального института корейского языка. Они присылают, как теперь, с этого года надо произносить какое-нибудь слово. И я знаю, что так произносит 1% населения в Корее, мне просто интересно, кто после этого отчёта начнёт так произносить. Хотя некоторые нововведения были восприняты. Например, слово «нуриккун» (누리꾼), означающее пользователя интернета. Я даже знаю человека, который придумал это слово. Он работает в Обществе корейского алфавита. Мы видим, как придумывают слова и они либо приживаются, либо нет.
OR: Вы говорите, что ежегодно выпускаются списки новых слов, рекомендаций, я так понимаю, что необязательно корейцы начинают следовать им массово.
Похолкова Е.А.: Так происходит в любой стране, но корейцы это отслеживают. Есть даже телефон, по которому можно позвонить и спросить, а как надо правильно писать, а где нужно пробел ставить: здесь или здесь. Пробелы — тоже большая проблема для корейского языка, ведь корейцы очень долго писали слитно практически всё. И теперь на юге идёт тенденция к максимальному дроблению и постановке пробелов. Например, когда мы учились, «конбухальсуитта» мы писали слитно, а теперь, по правилам южнокорейского варианта языка, мы пишем «халь су ита», поэтому на глазах происходят трансформации.
OR: Вы говорили про особенности перевода, что язык открывается по-новому, глубже идёт именно осмысление процессов. В таком случае насколько важно знание культуры для того, чтобы понять, принять корейский язык?
Похолкова Е.А.: С одной стороны, мы приходим к вопросу, а что такое культура. Многие не понимают, так как это не просто балет, Достоевский, «ханбок» или «Кёнбуккун». Культура — это всё. Это тот воздух, которым мы живём. Многие не понимают, в чём суть этой культуры — это не только изучение каких-то древних памятников, это и культура повседневности. Вот мы сейчас переводим рассказы, довольно короткие рассказы известного корейского писателя Сон Сокче, и каждое предложение — это сложность, потому что даже в самых примитивных словах у нас идет смысловое семантическое несовпадение. Одно дело — слово, у него есть значение, но коммуникация — это не про значения, это про смыслы, это совсем другая категория. Смыслы формируются из общего контекста, из общего культурного пласта, исторического фона, понятия хронотопа, пространства и времени (кем сказано, при каких обстоятельствах, какого возраста, какой профессии). Всё это — культура. И, выучив грамматику и слова, невозможно достичь успеха в межкультурной коммуникации между русскими и корейцами, нужно очень много знать и обладать культурным фоном. Это будет очень способствовать межкультурной коммуникации, потому что в переводе в нашей языковой паре всё время как будто надо немножко дотягивать, выпрямлять, разъяснять, добавлять, дополнять какие-то пробелы. Более того, у нас разносистемные языки и слишком разные культурные фоны, культурные пространства, и даже, казалось бы, очевидные вещи могут оказаться не столь очевидными.
OR: В таком случае требуется окунуться в эту повседневность, чтобы овладеть корейским языком, необходимо прожить какое-то время в Корее?
Похолкова Е.А.: Да, обязательно. Мы всё время говорим об этом со студентами. Безусловно, стажировка — это всё же какое-то экономическое бремя для семьи. Но при любых обстоятельствах, тот, кто бывал на стажировке, всегда выигрывает перед тем, кто никогда там не был. Потому что в аудитории мы даём костыль, с которым человек пойдёт, но ведь когда-то надо учиться ходить и без костыля, а далее научиться бегать и делать марафонный рывок. Поэтому для человека, который имеет дело с межкультурной коммуникацией, постоянно совершенствоваться — дело всей жизни. Присутствие в стране изучаемого языка обязательно, а если ты находишься в России, необходимо окружить себя этой средой: выставки, мероприятия, фильмы, книги. Я в какой-то момент просто завела корейское телевидение и в любую секунду, когда я была дома, я включала его. Я смотрела всё, что на нем шло, даже песенные конкурсы, от начала до конца, и вдруг я в какой-то момент пришла на перевод, и корейский язык стал для меня какой-то 3D-картинкой, наслоившейся на мои знания, на понимание основ и принципов межкультурной коммуникации. Но среда, безусловно, важна.
OR: Екатерина Анатольевна, мы знаем, что у Вас огромный опыт преподавания языка. У Вас наверняка есть секрет, как учить корейский. Поделитесь, пожалуйста.
Похолкова Е.А.: Коротко суммирую свои мысли. Во-первых, необходим хороший учебник. Во-вторых, я думаю, в каждом университете есть свой хороший преподаватель — тот человек, который умеет разъяснять. В-третьих, обязательно домашнее задание. В корееведении успех достигается через пот. Значит, важны: учебник, преподаватель, методика, мотивация. Всё начинается с любви и всё заканчивается этим. Как только любовь проходит, ничего не получается. Обязательно максимальное включение — это еще один из элементов. Стажировка или присутствие в стране тоже является очень важным ингредиентом. Ну и последнее, я очень люблю, на самом деле, слово «ёльсими», потому что оно состоит из двух иероглифов — «горячее» и «сердце». По-русски оно переводится как «усердно». Это тоже значит, что всё, чем ни занимаешься в корейском языке, вообще в жизни, надо делать усердно, не безразлично, и тогда всё получится.
OR: То есть не зубрежка, а все-таки сердце?
Похолкова Е.А.: Точно.
OR: Спасибо вам большое за беседу.
Похолкова Е.А.: Спасибо.
OR: До новых встреч.
Похолкова Е.А.: До новых встреч.
Ведущая: Елена Хохлова, шеф-редактор «Orientalia Rossica»
Менеджер проекта: Мария Чистякова
Расшифровка: Елизавета Кривоносова, Анна Лебедева
Монтаж: Мария Аносова
Корректор: Дарья Дронова

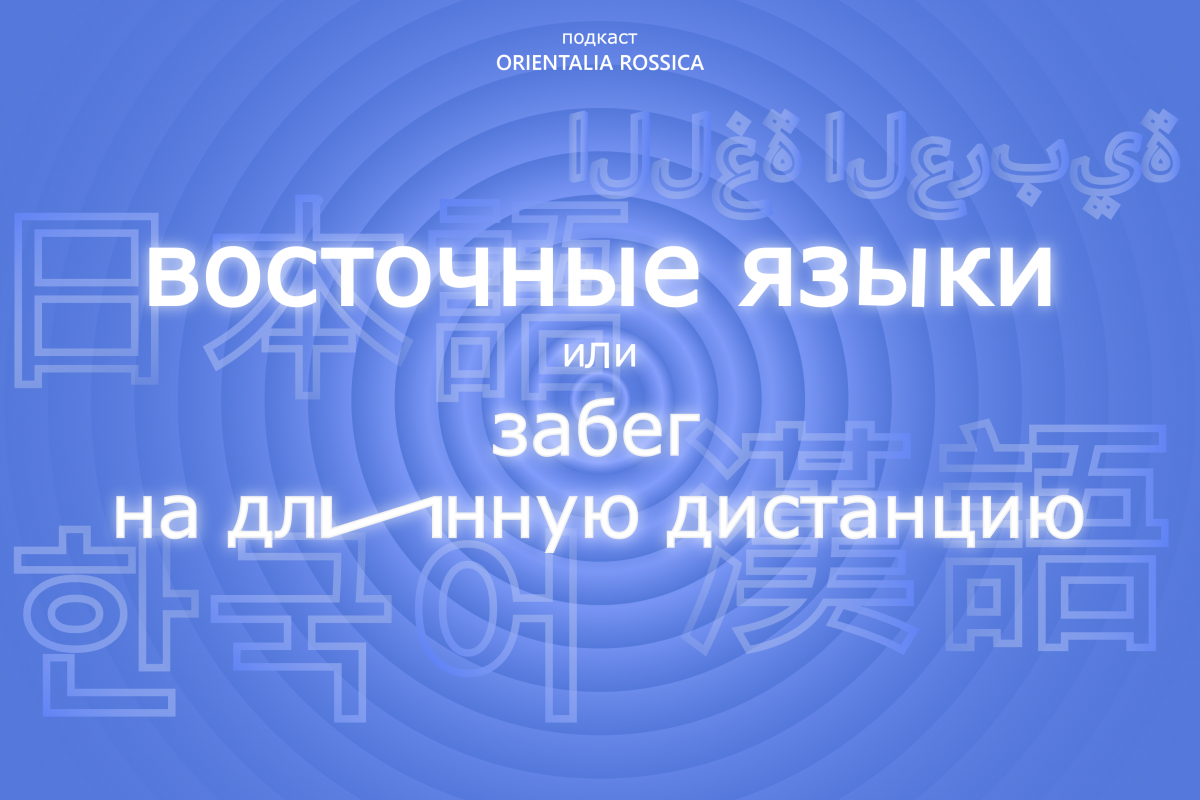


Комментарии
Добавить комментарий